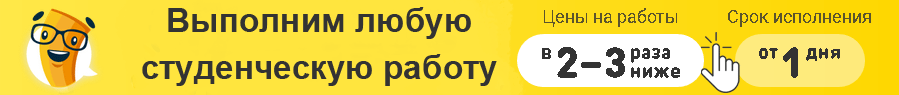Учебная работа. Реферат: Наука о разнообразии
Ю.В. Чайковский
Я имел Счастье дружить с Сергеем Викторовичем Мейеном. С того памятного дня 1971 года, когда я увидел на книжной обложке его фамилию, дотоле мне неизвестную, и до того страшного своей безнадежностью мартовского вечера позапрошлого года, когда он в знак прощания шевельнул левой рукой (правая давно не двигалась). Все эти годы я, как теперь понимаю, жил с потаенной мыслью: есть Сережа, можно существовать и что-то делать. И вот его нет.
Ораторы, выступавшие на похоронах, каждый на свой лад высказывали одну и ту же мысль: мы потеряли гения.
Многие удивятся: не через край ли хвачено? Почему же мы его не знали? Отчего он даже не претендовал на академическое кресло?
Да именно потому, что на него теперь надо претендовать, пробиваться…
Мейен был более чем академик — был лучшим в своей науке. Зачем ему было украшать себя членством в ученых обществах, если серьезные общества сами давно почитали за честь украсить себя членством Мейена? В сорок лет он стал вице-президентом международной организации палеоботаников. Но какое это имеет попросту нет?
Кроме своей науки, его больше всего занимали проблемы этики. Начав со статьи «Научиться понимать» («Неделя», 1976, № 2), где впервые сформулировал свой «принцип сочувствия», теперь уже широко известный, он постепенно развил учение о неразделимости познавательных и этических процессов, а закончил статьей о проблемах перестройки в науке (произнес ее слабеющим голосом в диктофон), где показал, к каким бедам приводят установившиеся в Академии наук порядки…
Уходил он из жизни героически. В январе (ему шел 52-й год), убедившись, что страшная боль не дает повернуться на бок, слабо улыбнулся и сказал: «Я стал подобен онтогенезу — каждая новая стадия закрывает прежние степени свободы». Но работал еще 2 месяца, до самого конца. И у нас, оставшихся, нет другой степени свободы, кроме как попытаться осознать то, что он для нас сделал.
Суждение о новизне.
Разбирая публикации Сергея Викторовича и размышляя над кругом работ, которые они породили, я пришел к выводу, что можно говорить о новой науке, предмет которой — разнообразие. Подыскивая для нее названия из полудюжины подходящих греческих терминов, я выбрал слово диатропика, от диатропос — разнообразный, разнохарактерный, поскольку само понятие тропос (поворот, способ, образ мыслей, нрав, обычай, слог, стиль, направление) наиболее многозначно и хорошо соответствует широте спектра задач, решаемых новой наукой. Исследуя те сходства различных объектов и те различия сходных, на которые в других науках редко обращают внимание, диатропика имеет отношение ко всему на свете. Это значит, что очерчивая круг ее задач, важно соблюсти определенный такт, чтобы наука не превратилась в пустой разговор на научные темы, как то не раз случалось с другими направлениями мысли. Иными словами, надо ясно определить некоторый аспект рассмотрения, в котором можно рассчитывать на содержательные результаты и в то же время не пытаться подменить уже существующие науки (не выдавать их результаты за собственные). далее я попробую очертить этот аспект.
Рождение действительно новой науки — вещь крайне редкая. Возникающие то и дело новые названия дисциплин обычно отражают либо детализацию предмета (так из науковедения выделилась наукометрия), либо появление нового объекта исследований (селенология — геология Луны), либо стык наук (биогеохимия), а чаще всего — все три феномена сразу (промышленная экология, внеатмосферная астрономия)… Это, так сказать, новые поколения научных дисциплин, вторичные дисциплины, рожденные новыми фактами — прямо или опосредовано. Несравненно реже мы видим рождение нового знания, основанное на переосмыслении старых фактов и представлений, где новые факты играют роль пусть и существенную, но подчиненную, где дается новое воззрение на прежний мир. Так, около 1900 г. родилась генетика, когда Г. де Фриз нашел, что наследование — нечто большее, чем » жизни в норме и при патологиях размножения». И уж совсем редко такое рождение затрагивает все науки сразу, как это случилось с появлением общей теории систем, — когда А.А. Богданов (1912) указал на то, что система имеет свои законы, несводимые к свойствам входящих в нее элементов. Даже молекулярная биология и кибернетика с этой точки зрения вторичны. У нас же пойдет речь о рождении действительно новой, первичной науки, для которой общая теория систем дает формальный аппарат — как математика дает аппарат для физики или статистики.
Известность разных идей Мейена далеко не одинакова. Если как палеоботаник он был признан научным сообществом в роли высшего авторитета, если как геолог он считался ведущим стратиграфом, если как философ и методолог был желанным участником конференций и сборников, то среди теоретиков эволюционизма его признавали лишь в качестве главы нетрадиционного направления, едва упоминаемого в руководствах, а как теоретик общей биологии Мейен остался одинок подобно Архимеду. Я далеко не все понимаю у Мейена и не во всем, что мне понятно, с ним согласен. Что могу, стараюсь изложить популярно, тем же заняты некоторые его ученики, но чувствуется, что этого мало. В принципе, так и должно быть: кого современники сразу поняли, тот не первопроходец, а скорее выразитель мнений, к которым общество готово.
Однако, науковедение для того и родилось, как мне кажется, чтобы избавлять развитие науки от ложных шагов, одним из которых всегда было непризнание первопроходцев. Привычная для историка науки ситуация — когда приходится констатировать, что ныне господствующие взгляды много раз выдвигались в прошлом и отвергались современниками, — должна, по-моему, перестать быть обычной, поскольку слишком дорого обходится людям. Опыт показывает, что если ученый был настоящим корифеем (его Лидерство не было следствием его административного положения или научной моды) в своей области, то и его размышления на общие темы не бывают совсем пустыми. Шесть десятилетий о Л.С. Берге, создавшем учение о номогенезе, говорили, что он прекрасный ихтиолог и географ, но дарвинизма не понимает, и только теперь, когда дарвинизм, похоже, прекратил свое существование как направление биологического исследования, сохранившись лишь как объект исторического анализа, подражания и преподавания, — только теперь выясняется, что Берг видел дальше своих критиков. Вдруг стали замечать давно известное — что среди его приверженцев были такие знаменитые наши эволюционисты, как Ю.А. Филипченко, Н.И. Вавилов и А.А. Заварзин; что среди его гонителей, наоборот, корифеев не числится. Хотелось , чтобы мс идеями Мейена этого не произошло.
Мецен ушел в эволюционизме гораздо дальше Берга и Любищева. Если у них основным пафосом была критика, то Мейен, с самого начала усвоив ее, сосредоточил усилия на конструктивной теории. Если оригинальные построения номогенетиков мыслились как альтернатива дарвинизму, как объяснение эволюции «не по Дарвину», то Мейен стремился к синтезу, к работоспособной теории. Помните, как сказано у Маркса? Философы до сих пор объясняли мир, хотя задача в том, чтобы его переделать. Перефразируя, можно сказать: эволюционисты до сих пор спорили о том, какие факторы привели мир в наблюдаемое нами состояние, хотя задача — в том, чтобы спасти его от этого состояния. сейчас, когда экологический кризис ставит вопросы об эволюции биосферы не в порядке гипотетического объяснения, а с целью найти способы жить в ней, когда прежние натурфилософские построения (ламаркизм, жоффруизм, дарвинизм, номогенез) непременно должны уступить место конструктивным схемам, допускающим хоть в какой-то мере прогноз и практические рекомендации — сейчас идеи Мейена нельзя оставить вылеживаться до лучших времен.
До сих пор в истории науки преобладает выявление предшественников нынешних теорий, отчего альтернативные пути волей-неволей затаптываются. Вот уже 300 лет вокруг стелы эволюционизма водит хоровод пяток одних и тех же фигур, по очереди высвечиваемых лучом научной моды — Ламарк, Жоффруа, Дарвин, Берг и Вернадский (похожие дискуссии велись не раз; первая, известная мне, происходила в середине XVII века). чтобы прочесть, наконец, что на стеле написано, надо прекратить хоровод. Необходим синтез, к которому впервые призвал Мейен и к которому он, насколько успел, приблизился.
Тесный мир логики.
Исходное для диатропики понятие — ряд, она оперирует им так же, как опытные и наблюдательные науки понятием факта. И так же, как факт не имеет смысла (а подчас и места) вне объясняющей схемы, так и ряд бессмыслен без сопоставления с другими. Смысл ряда радикально зависит от того, с какими рядами он сравнивается. именно этой произвольностью объясняется, по-моему, тот факт, что диатропика до сих пор служила в качестве Madchen fur alles (девочка для всего (нем.)), а не заводила собственный дом.
Ряд может быть задан общим свойством его членов — например, ряд зеленых стульев: из множества стульев извлечены обладающие свойством зелености. Можно задать ряд способом его построения — ряд простых чисел, алфавитный порядок слов. Наконец, можно задать ряд путем сопоставления с другим рядом — например, в англо-русском словаре русская часть сопоставлена по смысловому принципу английскому алфавитному ряду. Существенно, что ряд не может быть задан перечислением, что он является подмножеством, извлекаемым из заданного множества посредством определенного правила. Слово «ряд» не очень удачно, поскольку ассоциируется с линейной упорядоченностью (которой в действительности может и не быть), но оно прижилось, и менять его поздно.
Наиболее частым является третий способ построения — сопоставление рядов, связанное с параллелизмом. Упорядочивая элементы по одному принципу, мы то и дело видим проявление какого-то другого принципа. Так, в англо-русском словаре на буквы A, S видим массу эллинизмов, а по всему словарю — массу латинизмов в окончаниях на -tion (-ция) типа evolution — эволюция. здесь параллелизм проявляется поэлементно, но это необязательно. Так, во всех частотных словарях зафиксировано одно и то же гиперболическое распределение слов по частотам их употребления — это параллелизм системный.
Наиболее четким (правда, редким) случаем параллелизма является периодичность — например, периодическая система химических элементов, где элементы упорядочены в строки по заряду ядра, а сходства реализуются в форме столбцов.
Как сформулировал философ Ю.А. Урманцев, системы «действительно обнаруживают определенный шаблон — повторяющиеся от системы к системе строй и порядок». С точки зрения абстрактной логики это — следствие известного принципа Дирихле: объектов в природе больше, чем логических возможностей, вот свойства объектов и повторяются. мир логики тесен для мира феноменов.
Встает вопрос о законах этой повторности, который и решал на своем материале Мейен. Материал этот в сущности стар, как сама ботаника. В «Инвентаре растений» Каспара Баугина (1623) зарегистрировано много повторностей — как в форме синонимов, так и при группировке видов, но нет никаких свидетельств осознания параллелизма как феномена. У Линнея (1735) феномен ясно осознан, и даже упомянута потребность в таблице, но таблицы нет. Пкрвую попытку задать повторность в форме таблицы, пересечением строк и столбцов, дал, насколько мне известно, шведский ботаник Элиас Фрис (1825), и почти тогда же параллелизм описан в гуманитарной сфере, но тоже ботаником: Александр Гумбольдт (1814) обнаружил типологическое сходство мифов Центральной Америки и Африки. однако только после формулировки Периодического закона Менделеевым (1869) стали появляться различные «периодические системы организмов». беда этих систем состояла в том, что они были или слишком общи, или в таблицах преобладали пустые клетки. Именно на этом основании их отвергало большинство систематиков, но вот Мейен понял главное: пустота клеток означает лишь избыточность табличного принципа записи, а не порочность самого описания посредством пересечения строк и столбцов. Этот принцип описания прокламировал Н.И. Вавилов в своем знаменитом законе гомологических рядов (1920), но у него ряды задавались только сопоставлением друг с другом. В 1935 г. московский ботаник Н.П. Кренке предложил систематизировать формы внутри каждого ряда с помощью своего «закона родственных уклонений»: таблицами можно упорядочивать не только сами свойства, но и пути их изменений. С этого пункта и начал свое построение Мейен.
другим исходным моментом было для него давно забытое замечание Н.Н. Страхова (1858) о том, что сравнительная анатомия классифицирует части тела так же, как систематика — организмы. По аналогии с понятием таксона (вид, род, семейство, отряд, класс…) Мейен ввел понятие мерона — «класса частей». Организму свойственны признаки, а таксону — мероны. Позвоночное имеет две пары конечностей (плавники, ласты, лапы, крылья, ноги, руки), а таксон «позвоночные» имеет мерон «парные конечности». В этих терминах Мейен сформулировал два простых и важных утверждения.
первое: классификационная наука состоит из таксономии (исчисления таксонов) и мерономии (исчисления меронов), причем процедура классификации всешда состоит в попеременном обращении то к одной, то к другой, иными словами, пока новая система всегда исходит из прежней (а в самом начале была интуиция), тогда как исследователь порой думает, что строит систему сам.
второе: при переходе от одного таксона к другому всегда наблюдается сходный (а иногда и тождественный) ряд меронов; эту повторяющуюся последовательность Мейен назвал рефреном.
Наиболее ясные примеры рефренов дает грамматика в виде правил склонения или спряжения. Очевидно, что слова «пол» и «стол» преобразуются по одному и тому же закону, но самое интересное не в этой поверхностной симметрии, а в том, что все русские существительные преобразуются по одному и тому же закону, именуемому русской падежной парадигмой. Вместо того, чтобы запоминать все формы каждого существительного, можно запомнить его исходную форму и номер склонения. Сказавши, что в каждом склонении есть шесть падежных форм (в единственном и множественном числах), мы кратчайшим образом опишем разнообразие форм существительных, если не захотим углубляться в маловажные детали.
увы, в биологии такой классификации нет, каждую видовую форму приходится описывать и заучивать отдельно. А ведь материал явно проявляет регулярность. Возьмем хотя бы конечности позвоночных: в пяти главных классах (костистые рыбы, амфибии, рептилии, птицы, звери) наблюдается один и тот же рефрен — от полного отсутствия одной или обеих пар, через зачаток или слаборазвитую пару, полноценный плавник (ласт), лапу и планирующую поверхность — к активному органу полета (крылу). Правда, некоторых вариантов не бывает (у амфибий не бывает крыльев, не бывает зверей без передних конечностей), но в остальном параллелизм удивительно полон. Достаточно отметить, что у четырех классов наблюдается хиротность (наличие крохотных «ручек» при полном отсутствии «ножек»): среди рыб это китовидка и угорь, среди амфибий — сирен, среди рептилий — хирот, среди зверей — киты. У всех пяти классов мы видим ласты, способность к планированию, утрату одной пары (или обеих пар) конечностей и тому подобное, причем формы отнюдь не связаны родством, как не связаны родством существительные первого склонения. Китовидка удивительно похожа на гренландского кита, только крошечного, хотя принадлежит к другому классу и живет в других условиях.
Сходство часто не связано ни с происхождением, ни с приспособлением. Вывод Мейена: следует разработать две теоретические процедуры — исторических реконструкций и адаптивных интерпретаций. Наряду с ними следует признать всеобщность рефренной структуры, которая реализуется в силу чисто системных (диатропических) свойств всякого архетипа; приспособительный характер рефрена выражается в одном: плохо приспособленные редки, а совсем неприспособленных к жизни, понятно, нет.
Это — совершенно новый для биологии принцип. Рядом с приспособлением, господствовавшим у Ламарка и Дарвина, встает не менее важный феномен — разнообразие. Пока биология имела дело только с фактами, а не с их рядами, заметить это было невозможно. Естественно встает вопрос: а законно ли вообще рассматривать приспособление как главный принцип организации живого? Если от поддакивающей истории обратиться к истории напоминающей, то окажется, что этот вопрос давно задавали умнейшие эволюционисты, в том числе Анри Бергсон (1907). Он видел в приспособлении к определенной среде лишь вторичный эффект, а первичным полагал внутренний импульс к развитию. По этой идеологии жизнь подобна фонтану: вверх струя взлетает, руководствуясь «внутренним импульсом», вниз же капли разлетаются, приспосабливаясь ко внешним обстоятельствам. В эволюции, как она представляется мне, равноправны три феномена: прогресс, приспособление и разнообразие — но до сих пор ни одно учение не претендовало на их синтез. Дарвинизм категорически игнорировал прогресс, номогенез, едва упоминает приспособление, а в ламаркизме принижено разнообразие (Мейен сумел наметить синтез схем дарвинизма и номогенеза).
Ядро и периферия
Не имея дела с отдельными фактами, диатропика не может давать утверждений, справедливых абсолютно для всех объектов. Изучая какое-либо множество, она всегда выявляет в нем ядро типичных объектов, для которых формулируемые закономерности выполняются очевидным образом, и периферию — сравнительно немногочисленные объекты, на которых закономерности данного множества видимы плохо, вплоть до, может быть, полного отсутствия. Так, позвоночным свойственны две пары конечностей, точнее, это свойство ядра позвоночных, а на периферии типа мы видим одну пару у тех же хиротных и даже отсутствие обеих пар: один крохотный класс (круглоротые), один отряд (змеи) и несколько более мелких таксонов.
Ядро и периферию можно выделить почти всюду (заметьте: без «почти» не обойтись — такова уж диатропика), и это позволяет по-новому взглянуть едва ли не на все науки. К примеру, классификация: вместо вековых бесплодных споров о том, сколько в живой природе царств — 2, 4, 7 или 23, — следует задать вопрос: сколько можно выявить ядер примерно равного ранга? исследовав этот вопрос подробнее, легко понять: царств всего четыре (бактерии, растения, грибы и животные). Все же остальное — периферические группы, не образующие ядер, но легко объединимые в три межцарства, где попарно комбинируются свойства царств растений, грибов и животных.
Так же упрощается дело на всех уровнях систематики. Нечего спорить о том, к енотам или собакам отнести енотовидную собаку, ибо она — периферический вид между семействами псовых, енотовых и виверровых. Ее отнесение к псовым — дело вкуса, и лучше уж не ломать установившуюся традицию, оставить существо среди псовых. Вместо спора о границах надо четко выявлять ядра. Вообще же можно сказать, что ядро и периферия есть не только у каждого таксона, но и у каждого закона (под законом подразумевается формулировка (правило) и объясняющий это правило механизм, а под закономерностью — фактически наблюдаемая в природе тенденция). Во всякой большой системе есть объекты (ядро закона), на которых данная закономерность действует как бы в чистом виде, тогда как у других ее тоже можно заметить, но она как бы смазана действием других законов. Если ядро можно выявить, то законсвоей периферии, то о законе лучше не говорить — вот и все. И все-таки ученые спорят, столетиями повторяя одни и те же аргументы и заставляя вхолостую работать новейшую и сложнейшую технику — лишь потому, что не приходит в головы сперва договориться, какого типа закономерности вообще можно надеяться наблюдать на данном множестве.
Например, планетные астрономы спорят так о реальности и роли резонансов — совпадений (или крайностей) периодов, и исход спора важен для понимания процессов в Солнечной системе. резонансы бывают разной степени точности — от справедливых абсолютно (Луна всегда повернута к Земле одной стороной в силу совпадения периодов ее вращения и обращения вокруг Земли), до весьма сомнительных (приблизительное совпадение периодов солнечной активности и обращения Юпитера). взгляд с точки зрения диатропики здесь, по-моему, сильно упрощает дело: как качественная закономерность резонансы достоверны, но как точные равенства они, вероятно, — лишь редкие исключения.
В сущности, всякая наука имеет дело не с самими законами, а с закономерностями, описывающими их ядра. Мейен не раз напоминал, что самый респектабельный и точный закон на поверку имеет периферию. например, двудольные плоды не всегда имеют две семядоли — надо лишь просмотреть достаточное число экземпляров исследуемого вида. совсем другой пример. Всем вроде бы известно, что падежей в русском языке шесть, но это — лишь простейший способ описать ядро именных словоформ. При попытках детализировать или уточнить само понятие падежа их оказывается в русском языке до девяти. То же и в других языках.
Сколько раз превозносилась универсальность генетического кода! А потом периферию нашли и тут: «пятая буква«, нетипичные значения триплетов.
Разнообразие тоже наследуется
Если говорить о вкладе диатропики в эволюционизм, то, прежде всего надо отметить феномен, который Мейен назвал транзитивным полиморфизмом. В череде поколений разнообразие восстанавливает себя почти независимо от того, какая его часть берется для размножения. Яркий пример приводил Дарвин в 1868 г. Известно огромное разнообразие персиков — по вкусу, форме и цвету плодов, по форме косточки… среди них возникла вариация (мутант) с гладкой кожицей, и вот она повторила своими (вторичными) вариациями все формы бархатистых персиков. Глядя на это вторичное разнообразие, нельзя понять, из какой формы оно получено — какая форма послужила для транзита. Рефренная структура вида была воспроизведена заново, и вновь появились формы, которыми исходный мутант с виду не обладал. Разнообразие было передано по наследству.
Транзитивный полиморфизм, как и все законы разнообразия, воспринимается с трудом, несмотря на свою эмпирическую очевидность. поскольку человек сам производит отдельные действия и следит за отдельными объектами, то ему трудно усвоить ту мысль, что природа оперирует с разнообразиями, взятыми целиком. В частности, и эволюцию принято рассматривать как появление и изменение отдельных свойств у отдельных видов. особенно грешат этим ламаркизм и дарвинизм. Селекция пород, полезных в каком-то отношении, давно стала моделью эволюции, хотя Спенсер еще в 1864 г. заметил, что на самом деле эволюция представляет собой целостный процесс, в котором нельзя выделить отдельные эволюционирующие по своим законам объекты.
Это, в сущности, библейская традиция — следить за генеалогией отдельных лиц или их качеств, идея преследовать «до седьмого колена», основанная на уверенности, что «вор рождает вора». В действительности же общество порождает все свое разнообразие, в том числе и воров. Пусть вор и происходит чаще всего от вора, но это не значит, что после ликвидации всех воров их будет через одно — два поколения ровно столько же — сколько соответствует системе. передача через поколения (транзит) может происходить и поэлементно, но важно понять, что суть транзита не в этом, а в порождении разнообразием разнообразия. Именно поэтому, в частности, бессмыслен всякий индивидуальный террор, если речь идет об эволюционном масштабе времени. Однако краткосрочные перемены он порождать может — ведь транзит требует смены поколений.
Кстати, Мейен часто пользовался термином «индивидуальный террор» для шутливого обозначения объяснений каждого факта в отдельности. Он призывал эволюционистов сменить «индивидуальный террор фактов» на выявление тенденций, а затем — и их механизмов (законов). В отношении транзитивного полиморфизма он указывал на то, что в рамках возможностей данного рефрена каждый признак реализуется сам собой — пусть и редко, но достаточно регулярно.
Выражение «сам собой» означает, в частности, что любое состояние мерона может, в принципе, реализоваться у любого таксона, то есть у разных таксонов бывают общие мероны. И наоборот: разные мероны могут быть в общем таксоне. Мейен кратко называл это мероно-таксономическим несоответствием, установление же самого феномена связывал с работами Урманцева. важно отметить, что такое несоответствие скрепляет разнообразное множество (сообщество) в систему, обеспечивая в ней связь всех элементов со всеми. Масштабы несоответствия могут быть очень различны. Там, где несоответствие слишком велико, бывает трудно выявить ядро и периферию, а значит — ввести классификацию объектов (элементов). В ботанике таксоны с такими свойствами издавна называли crux botanicorum (крест ботаников). Там же, где несоответствие слишком мало, наблюдается распад системы на слабо связанные подсистемы с малым разнообразием в каждой. Эволюционисты давно описали этот феномен как специализацию и установили, что она дает краткосрочные выгоды, а затем ведет к вымиранию.
Более всех преуспели в специализации насекомые, например, те тли, у которых каждый вид может питаться одним единственным видом растений. Оставшись без него, все или почти все особи мрут от голода при изобилии пищи. Эволюция таких видов невозможна без катастроф.
берегите несоответствия!
Ценность диатропики — в ее междисциплинарности, в применимости к любым системам, в том числе и социальным. Так, сейчас много пишут о том, что в нашем обществе нарушены многие соответствия, необходимые для его успешного развития: цен и спроса, дохода и производительности, прав и обязанностей…
Все это верно, но никто еще, кажется, не написал, что у нас опасно нарушено одно несоответствие — разнообразия общественных институтов с разнообразием их функционеров.
Всякий общественный институт организован по функциональному принципу, но люди, его наполняющие, демонстрируют разнообразие, а оно подчиняется другим законам, законам диатропики. Им же подчиняется и разнообразие самих общественных институтов — таксонов. Каждый человек обладает множеством признаков (каждый признак есть состояние мерона), причем далеко не все активны, не все используются. Спеуиализация института выражена в том, что он заполняется людьми с определенными активными качествами, в результате чего падает мерономическое разнообразие этого таксона. Разные таксоны при этом теряют значительную долю общности меронов, что понемногу приводит их к невозможности прямого функционального контакта, к потере общего языка. Обычно об этом говорят как о ведомственности и бюрократизме, но понимания сути тут еще мало, что видно в безуспешности методов борьбы с этим злом путем «координации». В одной из недавних публикаций (А. Ефимов «Элитные группы, их возникновение и эволюция», «Знание — сила», 1988, № 1) сказано (со ссылкой на «детей Арбата» Рыбакова): «Топор репрессий был <…> направлен не на людей — на связи между ними». Хотя Сталина и беспокоили, как отмечено там же, связи между руководителями, но достигнуто было гораздо большее: мероны разместились по таксонам, и параллельные (недолжностные) связи между общественными институтами стали распадаться. Кастовая замкнутость во многих из них намного превысила дореволюционную. О придворных, сенаторах, министрах, главных фабрикантах и фельдмаршалах обычно было известно, что они любят, чем их можно заинтересовать или отпугнуть, где они бывают и кто бывает у них. Сходная картина была до середины тридцатых годов, и как курьез напомню, что Бабель водил компанию «с главными милиционерами» (в том числе чуть ли не с Ежовым). Сейчас этого нет, пресечено большинство каналов неофициальной информации. Во всех отраслях нашей жизни аппарат живет обособленно от управляемых и, насколько мне известно, столь же обособлены друг от друга работники аппарата разных этажей и разных отраслей.
Указывать выход — задача не диатропики, но она может и здесь дать рекомендации, неучет которых будет (как свидетельствует исторический опыт) губителен. В частности, проводимые сейчас попытки сменить одни регламентации на другие заведомо бесполезны, поскольку не восстановят полноценного разнообразия.
Так, часто пишут, что министерств слишком много. Действительно, сейчас только в Москве более ста министров и равных им, а в первом советском правительстве было всего 12 наркомов. растут министерства под лозунгом «Отрасли нужен хозяин«, но на деле оставляют безхозными одно Производство за другим. «Огонек» № 28 за прошлый год поведал, что кроме Минхимпрома есть еще Миннефтехимпром — единственный производитель презервативов, изделия для него побочного (а ведь в Москве есть Минмедпром и два Минздрава). Три десятилетия назад разобщенность министерской системы была заменена еще худшей — совнархозами, от которых скоро отказались, зато создали массу ведомств вроде Минюгстроя. Сейчас объединяют министерства в госкомитеты. результат плачевен: одни регламентации заменяются другими, почти того же качества. Качество их вообще не может быть приемлемым, поскольку реальность нерегламентируема.
Пользы можно ожидать лишь от подлинно добровольных союзов. Вопрос — как добиться их самоорганизации. Симпатии российского общества, к сожалению, всегда клонились в сторону регламентации. Эта сторона дела, увы, — вне сферы действия диатропики. Я лишь хотел подчеркнуть, что возможности новой науки чрезвычайно обширны, а ее исследовательская программа очевидна.
список литературы
Мейен С.В. Основные аспекты типологии организмов. «журнал общей биологии», 1978, №4.
Мейен С.В. Следы трав индейских, М., Мысль, 1981.
Чайковский Ю.В. Грамматика биологии. «Вестник АН СССР», 1986, №3.
Чайковский Ю.В. Молодежь в разнообразном мире. «Социологические исследования», 1988, №1.